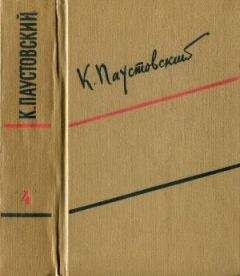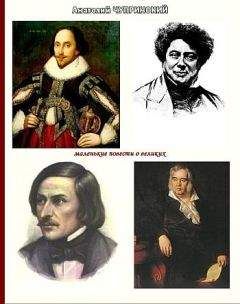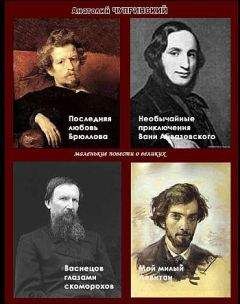Алексей бросил папиросу, встал, сердито растоптал окурок.
— Ерошкин, скажу тебе, хороший офицер. Взвод его, правда, особо не вырывался, но четверку всегда давал твердую. Командовал же взводом Ерошкин уже около четырех лет. Ну, я и начни это Рокотову втолковывать. Говорю, тут у тебя, Лео, мушка сильно сбита, от скромности далеко в сторону берешь. А он вспыхнул весь, глазами сверкнул: «Но мой взвод все-таки лучше?» — «Куст, — говорю, — хорош, но ягода еще зелена. Вполне повременить можно». Это и вывело его из себя. «Повременить, — не сбавляя тона, повторил он. — Мудрость эта не нова. Но мне, дорогой мой мальчик, жезл маршальский покоя не дает. Как, видимо, и тебе. Понимаешь? Без которого солдат — не солдат. А ты — повременить…» Он со злостью покусывал травинку, а затем, отшвырнув ее в сторону, уже тише, с плакучей такой горечью продолжал: «Я тружусь, не досыпаю. От подъема до отбоя с солдатами. Посмотри, что осталось, — он сжал пальцами впалые щеки, — а мне… благодарность в приказе… Конфетку — маленькому!» — «Слушай, Лео, — говорю ему, — а не рановато ты того… в маршалы?» Опять вспыхнул, медленно, с расстановкой, иронизируя (да ты знаешь, как это у него получается), сказал: «Докладываю вам, товарищ секретарь, что сентенции мне противопоказаны». — И быстро ушел. Ну и с тех пор… Словом, пошло все через пень колоду. Лео мой, смотрю, вроде тот, но все-таки и не тот. При встречах спрашиваю у командира роты, капитана Курочкина, как, мол, там у вас Рокотов. Капитан цедит с недосказочкой: «Ничего, тянет». А однажды, подумав, говорит (в ротной канцелярии дело было): «Да я к нему все присматриваюсь. Что-то того… Подзатуманилось в человеке». — «Головокружение от успехов?» — «Э, нет, — решительно не согласился капитан. — Успехи-то были, а теперь тают. И с коллективом он лоб в лоб». И вдруг Курочкин предложил: «А не поговорить ли нам с ним? Тем более что Рокотов так легок на помине: вон он идет к штабу», — показал капитан в окно. Рокотов вошел такой же хмурый, каким был все последнее время. По-уставному обратился, получив разрешение, сел. Но, почувствовав, о чем пойдет речь, вспыхнул, заторопился с оправданиями: «Ну вот, был вроде хорош, а теперь испортился». — «Малость есть», — сказал капитан. «Считайте, как хотите…» И все в том же духе в течение целого часа. По лицу его бродили розовые пятна, в глазах метался беспокойный и злой огонек. Так и ушел он, ни с чем не согласившись, уверенный в своей правоте. И когда дверь за ним закрылась, командир роты спрашивает у меня: «Ну а теперь скажи мне, комсомольский бог, что я должен написать о нем вот на этой бумаге?» — Капитан вынул из стола бланк аттестации на присвоение очередного воинского звания. «Это, — говорю, — уже вам решать». — «Так вот я и решил: пока не ходатайствовать».
…Мы закурили еще по одной папиросе. Я задумался над тем, что рассказал Алексей.
В каждой черточке я узнавал Рокотова, того самого Лео, красивого и дельного курсанта, эрудированного, остроумного. Но тогда мы были так слепы и так по-товарищески нечутки к нему.
И еще я думал, глядя на Алексея: «Ну а Лена? Что же ты, упрямец, о ней не скажешь ни слова? Я ведь помню, как ты мучился, как краснел при встречах с ней, как неумело отбивался от наших шуток и этим разоблачал себя… Ну так хоть одно слово о Лене, дружище. А?»
Алексей не мог прочесть моих мыслей и довершал рассказ. О том, как ушел вверх по инстанциям пакет с аттестациями, как взамен его прибыл в часть другой пакет — с приказом, как Рокотов, поздравив его, Алексея Романова, с «третьей каплей», ушел вечером из части, а ночью дежурному по полку позвонили из комендатуры: задержан лейтенант Рокотов… пьяный…
— Заливал обиду, — подытоживает с горькой усмешкой Романов и умолкает. И долго-долго смотрит не мигая куда-то-за речку и за маревое поле. Смотрит со злостью и с той же затаенной, глубоко спрятанной грустью, которую не сразу и разглядишь. А затем порывисто встает, одергивает гимнастерку:
— Пошли…
Остальное Алексей договаривал уже на ходу.
— Вынесли ему на первый раз общественное порицание. Само собой, по комсомольской линии всыпали.
У Алексея был тяжелый чемодан, он часто менял руку и поэтому рассказывал с паузами.
— Позавчера Рокотов провожал меня. Я попрощался с ним в полку, а на вокзале вижу — идет. И сразу: «Что ж, Лешка, мы теперь и не друзья?» — «А это, — говорю, — зависит от письма, которое я получу ровно через три месяца». — «От какого письма?» — спрашивает. «От твоего, — говорю. — Вернее, от его содержания. Если я увижу, что у тебя вот в этой представительной коробке (тут я стукнул его по красивому лбу) обозначилась наконец отсутствующая извилина, тогда…»
Алексей меняет руку, и я вижу, что он уже улыбается.
— Рокотов спрашивает: «А почему именно через три месяца?» — «Такой, — отвечаю, — тебе карантинный срок. На предмет избавления от инфекции». Он улыбнулся, послал меня к черту и подтолкнул в вагон, потому что в эту минуту тронулся поезд. И знаешь, — Алексей останавливается, вытирает со лба пот, глаза его сияют, — именно потому, что он чертыхнулся, а не фыркнул, как это бывало раньше, я верю: появится нужная извилина. А ты как думаешь?
Леша с надеждой, как мне показалось, смотрел на меня. Взгляд его и все курносое, разгоряченное лицо будто упрашивало согласиться. Но я поосторожничал. Сказал, что письмо, мол, покажет. И еще что-то говорил в том же духе, а сам думал уже не о Рокотове, а о Леночке, о ее, как мне казалось, странном выборе. О том, какой слепой бывает любовь и какой странной — доброта.
***
Письмо от Рокотова пришло не через три месяца, — намного раньше. Мы уже обжились на новом месте, а с наступлением лета выехали в лагеря. Началась страдная пора.
Моя рота только что с ходу форсировала Тихоню (странное оказалось название у знакомой нам с Романовым реки), был дан отбой, и, искупавшись, солдаты отдыхали. Я тоже прилег на пахнувшую влагой и землей траву, отдаваясь блаженному ощущению покоя. И тут ко мне подошел Алексей, теперь уже — наш замполит. Прилег рядом и внешне недовольным голосом, в котором я не мог не уловить ликования, сказал:
— Ослушался, непутяга, приказа. Посмотри, — и протянул письмо.
Рокотов каллиграфически четким почерком писал: «Извини, Лешка, но настоящим письмом я подаю тебе рапорт с просьбой о досрочном переводе из карантина в строй. Тяжко и стыдно до сих пор. И гадостно донельзя. Сам себе противен…»
Сияющий, с обветренными щеками и обгорелым от солнца носом Алексей неотрывно (я это чувствовал) следил за мной и всем своим видом как бы говорил: «Ну что, Фома неверующий? Все-таки я прав оказался?!»
Я дочитал страничку, и тут Алексей, как-то вмиг потухнув, сказал, потянувшись за письмом:
— Дальше неинтересно.
Но листок был уже перевернут, и я прочитал: «Спасибо за письмо Лене. Она послушалась тебя — приехала. На следующий день после твоего отъезда я встречал ее. И только теперь понял, как незаменимо она нужна была мне в те по-дурацки горькие для меня дни. Ты понимал это, а я нет. Значит, был я и по отношению к ней неправ. Все выжидал, а чего — сам не знаю. Словом, мы расписались с ней, и вы с Ленькой можете нас поздравить».
Алексей рассеянно и невидяще смотрел за речку. И я не мог понять, что пытался он разглядеть там, в знойном и терпком воздухе. И что стояло в ту минуту перед его задумчивым взглядом.
Я протянул ему письмо, он взял его, стал медленно складывать. И будто очнулся. На лице снова появилась улыбка, в глазах таяла, уходя куда-то в глубину, невысказанная грусть.
Алексей быстро отвернулся от меня, торопливо встал и крупно зашагал к соседней роте…
Наш «Утеныш» — так прозвали мы с чьего-то легкого слова свой маленький и уже не новый пассажирский катерок — курсировал между Энском и большим, прямо на глазах поднявшимся в тридцати — сорока километрах от города рабочим поселком. Там же стояла и какая-то воинская часть.
«Утеныш» рано выходил в первый рейс, «в обгон солнышку спешил», как любил говорить мой совсем еще безусый, но охочий до слова помощник Виктор, стажер из речного техникума. Солнце еще только лизнет красным языком небо над лесом — лес же у нас по обе стороны реки, — а мы уже, глядишь, на полпути к поселку.
Вольготно бывает в такую рань на реке. Она как-то по-первозданному свежа и лучиста. На палубе, на скамейках, на спасательных кругах — всюду крупным потом — роса. И кажется, от нее зябко. Но это не от нее. Это от воды в порассветье тянет таким приятным охмеляющим холодком. И, как бы нежась в нем, кокетливо красуется перед глазами взбухшая в весеннем разливе речка. Легкий ветерок слегка рябит ее, будто причесывая, и, шевеля летучие гребешки, купается в них.
Это впереди катера. А позади него, за кормой, речка уже иная. Растревоженная, вспененная винтом вода сердито скручивается, выгибаясь тугими, разбегающимися к берегам валами.
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/265107/265107.jpg)